У соседа, дяди Коли, был день рождения. Гости разошлись, и за столом сидели только мы двое.
– Слесарь я, слесарь... А все они и в подмётки мне не годятся. Я такую поэму им заверну – глаза вылезут! Экспромтом... – говорил дядя Коля, обнявши меня одной рукой, а другой выковыривая глаз варёному окуню. – Они деньги лопатой гребут. Я знаю, как писать... Надо – про жизнь. Вот почему великие – великие? Потому что про жизнь писали. Без всяких философий. Как есть. И я про жизнь могу. Вот хочешь, стих сочиню?
– Хочу.
 Дядя Коля закатил глаза и стал ерошить волосы.
Дядя Коля закатил глаза и стал ерошить волосы.
– Значит, так:
Вот люстрочка висит,
Вот кроваточка стоит,
Вот сервантик лежит...
Нет, не то! Сервантик – стоит. Не годится... Ну, ладно. Стих уже готов. Осталось от... отредактировать. Ну, как тебе?
– О-о-о-о!..
– Ещё бы... Я свои стихи читал самому... э-э-э..., – дядя Коля защёлкал пальцами, – чёрт побери, забыл... Так он знаешь как отзывался? А уж он-то в стихах толк знает.
Дядя Коля налил по стаканчику. Мы выпили.
– Литература – великая вещь. Она облагорыли... тьфу, – облагороживает человека, – сказал он, запутавшись со словом «облагораживает».
– Почему – облагороживает?
– Потому что она… литература.
Он налил ещё.
– Мы сейчас... разберём мой стих и выявим его сущность... идейную ценность... для народа. Вот скажи: в чём его идейность?
Меня осенило:
– В монументальности!
– Так, но не совсем. Давай ещё по стаканчику. Главная идея – в простоте... в близости к народу. Я всё – прямо из жизни. Всё, как есть, на бумагу. А что такое «люстрочка» и «сервантик»? Для современного человека – это благосостояние. И этим мой стих силён... Как там у Лермонтова? «Не зарастёт народная тропа...». Давай ещё выпьем. А то, что стих не очень в рифму, – не беда. Рифма может быть и белой.
– А зелёной не может быть?
Дядя Коля с радостным изумлением воззрился на меня:
– Да у тебя, брат, ум критический! Нет, ты должен писать... У тебя талант. Я буду последний подлец, если дам ему погибнуть. Как Белинский открыл Гоголя, так я открыл тебя... для России! Дай я тебя поцелую... Пиши, пиши и пиши, денно и нощно пиши...
– Да что вы, дядь Коль, у меня не такой талант, чтоб для России...
– Ты сюда слушай, сюда! Кто ты такой, чтоб перечить? У тебя молоко не обсохло... Я тебе говорю – ты талант. Понял?
– Понял.
– Бери ручку и пиши.
– Что?
– Поэму.
– Но я ж не могу в рифму.
– Пиши зелёную... тьфу... белую. Потом научишься. Это чепуха: жил – был, смел – съел, пил – бил!
Тут он запустил пустую бутылку в угол. Она разбилась.
– Пойми, ты выше их всех!..
Он обнял меня и заплакал. На звон стекла прибежала жена дяди Коли.
– Налакался, поэт... Ложись спать. А ты тоже домой иди: едва на ногах держишься. Может, Ленку послать проводить, а?
– Что вы, тёть Маш! Я сам... у меня талант...
Утром я вспомнил подробности вчерашнего вечера. «А что, и попробую...». На меня, как говорят, накатило. Ну прямо то самое – вдохновение. Я взял карандаш, тетрадь потолще... Первая строчка удалась сразу. Над второй мучился два часа. Дальше пошло легче. К вечеру стихотворение было готово. Я с наслаждением прочитал его:
 По небу облака летели,
По небу облака летели,
А дождик лил, как из ведра.
И соловьи уже не пели,
Так как они не поют,
Когда дождь или жара.
По полю шёл я спозаранку
И нёс подмышкою бутыль.
В ней краска, чтоб покрасить дранку,
О мир, как я тебя люблю!
Россия, вольная Россия,
Тебе обязан хлебом я,
Который съем я за обедом.
Тебя одну лишь я люблю!
Люблю глядеть, как козы ходят,
Как черти из глубин земли.
Я вам, Елена, посвящаю
Свой золотистый стихопад...
Своё стихотворение я понёс дяде Коле. В трезвом состоянии он был более сдержан и на удивление рассудителен.
– Замечательно, – сказал он, – тут тебе и природа, и простота, и неологизм, и патриотизм. Тут тебе и трогательная любовь к животным – как у Есенина. Только вот, что это за Елена? Ленка что ли?
– Ну, Ленка...
– Ты это брось! Она через две недели замуж выходит. А её Сашка – боксёр... Понял?
– Понял.
– Напиши лучше «Джоконда»... Я вам, Джоконда, посвящаю... Вот так. И завтра же – в газету.
Ранним утром я был в редакции.
– Ты куда, молодой человек? – зевая, спросила вахтёрша.
– Да вот... стих я принёс... – сказал я, раскрывая тетрадь.
– Третий этаж, по коридору налево, – отвернулась она к чаю с бутербродами.
– Можно?
– Можно. Вы к кому?
– Да я стих принёс. Один стих...
– Того, кто вам нужен, сейчас нет. Зайдите завтра. А «стих» можете оставить на его столе.
Целую неделю я не мог застать заведующего отделом поэзии: то он дежурил в типографии, то выезжал на встречи со строителями, то только что вышел. Наконец, встреча состоялась. Виктор Александрович – заведующий отделом поэзии, а по совместительству и прозы, и сам уже известный поэт – был молодой, лет на семь старше меня. Зачёсанные назад длинные волосы открывали его высокий лоб. Стремительно здороваясь за руку, он пронзительно посмотрел мне в глаза.
– Давно пишете?
– Да... то есть нет. Не совсем... две недели.
– Где работаете?
Я начал было рассказывать про родной завод. Он не дослушал и задал ещё несколько вопросов. Я ответил, ликуя про себя: «Напечатают! Зря спрашивать не будут. Напечатают...».
Виктор Александрович посмотрел на часы:
– Так, я сейчас уезжаю в командировку. Приходите, ну скажем, недельки через две. Тогда обо всём и поговорим.
– Но... вы бы не могли в двух словах... хороший или плохой стих? Вы ведь читали?
– Я?? Конечно, нет!! – Виктор Александрович так жутко удивился, будто я спросил, ел ли он живых крокодилов.
– До свидания.
Через сто лет прошли две недели... Я похудел на пять килограммов. И вот, мужественно сдерживая трепет, вновь здороваюсь с Виктором Александровичем.
– Садитесь. Так...
Он долго искал мою тетрадь, роняя на пол кучу бумаги, разными почерками исписанной в стихотворной форме. Пробежал глазами моё стихотворение, как и в прошлый раз пронзительно на меня посмотрел. Мне показалось, что один уголок его губ всё пытается шевельнуться в ухмылке. Я смутился.
– Значит, Джоконде посвящаете?
– Да. Вообще, нет... Да.
– А почему запятых не ставите?
Я покраснел. Виктор Александрович расставил запятые.
– О чём вы хотели рассказать, что хотели выразить своим стихотворением?
 – Ну... что... погода была плохая, а я шёл по улице... тьфу, то есть по полю... и... думал про Россию... Про весь наш Советский Союз...
– Ну... что... погода была плохая, а я шёл по улице... тьфу, то есть по полю... и... думал про Россию... Про весь наш Советский Союз...
– А Джоконда здесь причём?
– Ну... ей я посвящаю стих...
– Зачем?
– Просто так...
– Просто так, просто так... – побарабанил Виктор Александрович пальцами по столу. – Сегодня у нас в редакции заседание литкружка. Там собираются ребята – начинающие поэты, прозаики, обсуждаются художественные произведения членов кружка и уже известных писателей. Заседание в семь часов, каждый понедельник.
– А мой стих?
– Полежит пока у меня. Кстати, не «стих», а стихотворение или стихи, а стих – это одна строчка.
Я ушёл вконец расстроенный: «Столько трудов – и такая волокита». На заседание я опоздал. Меня посадили рядом с девушкой, у которой были большие и грустные глаза. Председатель заседания, выбранный Виктором Александровичем из робко начинающих критиков, предложил обсудить её стихи. Она достала листок и печальным голосом, в слегка подвывающей, но не сильно и миленько, «поэтической» манере стала читать о собаке, которую хотел удавить хозяин, когда переезжал в кооперативную квартиру. Голос поэтессы становился всё жалобнее, она стала шмыгать носом, а в конце всхлипнула. Все понимающе переглянулись, а председатель передал ей салфеточку. И обсуждение началось. Многого я не понял, особенно моложавого поэта в модных очках. Он говорил, что мало какой-то «образности» и «выразительности», что содержание подчинено форме... Поэтесса дрожащим голосом повторяла: «Я согласна, я полностью согласна...»
Потом два студента-медика обсуждали стихи моложавого поэта. И, как мне показалось, про его произведения говорили то же самое. Но он говорил, что совершенно не согласен, что его не поняли и что душу стихотворения нельзя изучать медицинскими методами...
В конце заседания Виктор Александрович спросил о том, почерпнул ли я что-нибудь для себя. Я сказал, что почерпнул, и поинтересовался, когда напечатают мои стихи. Виктор Александрович рассказал, что где-то откопали древние мемуары, чуть помладше динозавров. Там автор восклицает: «Господи, что за времена пошли: дети не слушаются родителей, и все лезут в писатели...». Я солидно откашлялся и сказал: «Интересно...»
В следующий понедельник читали рассказ товарища Цезаря. Виктора Александровича не было, и заседание вёл не совсем начинающий худенький прозаик, его уже пару раз печатали. Рассказ мне понравился. Обсуждение начал медик:
– Произведение мне откровенно не понравилось. У вас написано: «Она лежала на его бездыханной груди и сама казалась бездыханной. И хотя в его организме эритроциты ещё вели борьбу с микробами не на жизнь, а на смерть, он был уже мёртв...». Но я – почти врач и заявляю, что фагоцитоз производится лейкоцитами, а не эритроцитами. Поэтому рассказ на любого специалиста произведёт неприятное впечатление. Считаю, что рассказ неудачный.
Медик сел. Цезарь с насмешливой неприязнью посмотрел на него. Слово взял другой медик:
– Я полностью согласен с предыдущим оратором, но хочу добавить. Рассказ называется «Улитки ползают ночью», но в рассказе никаких улиток нет, кроме того, не всякие улитки ползают ночью...
– Да ты хоть смыслишь сколь-нибудь в литературе? – взорвался Цезарь. – Они несут околесицу, а я должен слушать... Чёрт знает что!
Председатель постучал по столу:
– Товарищ Цезарь, так нельзя. Ребята только начинают...
– Да они не чувствуют элементарную фигуру речи! Цепляются к несущественным деталям, а судят обо всём произведении! Я, конечно, не Шолохов, но...
Все поморщились.
– Товарищ Цезарь, они ещё не могут, пока не могут, тонко судить о произведении. Но ведь наше литобъединение и призвано научить их этому. Они здесь учатся. Потом с них можно спросить и построже.
– Вот потом пусть и высказываются, – отрезал Цезарь.
Председатель покачал головой и дал слово растерянного вида поэту, уже давно очень начинающему, но в котором некоторые отмечали монотонно проклёвывающийся изнутри талант. Тот с опаской посмотрел на автора. Цезарь глядел удавом. Поэт откашлялся и осторожно начал:
– Я, конечно, не критик, но... как читатель к... рассказам... отношусь по-разному... – Он достал платок и вытер лоб. – И в зависимости от содержания делю их... на несколько... классов...
– Тараканов дели на классы, а литературу нечего делить!! Да это же детский сад, куда я попал? Да вы все тут ни бум-бум! И они собрались критиковать мой рассказ... Комики... Да ты сядь, сядь, дубина!
У поэта отвисла челюсть, он медленно опустился на стул. Все были совершенно ошарашены. Кто-то истерически хихикал. Первым пришёл в себя председатель.
– Вы что себе позволяете, Цезарь? Это, в конце концов, оскорбительно для всех нас!
– Невелики вороны.
Моложавый поэт – отчаянная голова! – решился открыто бросить вызов насилию:
– Мы не нуждаемся в вашем обществе!
– А я в вашем! Корчите из себя поэта. Да об ваши стихи – ноги вытирать стыдно. Я на вас эпиграмму написал. Хочите, прочту?
Все только этого и ждали:
– «Хочите...» – Шолохов нашёлся!
– Лев Толстой... «хочите», ха-ха!
– Всемирный учитель... Иисус Христос...
Террорист дрогнул и стал запихивать свой рассказ в портфель:
– Кому читал... кому читал... Работаешь по восемнадцать часов в сутки, читаешь массу литературы! А тут – сброд какой-то. Я в этой дыре был первый и последний раз!
И Цезарь гордо зашагал к выходу.
Ко мне несколько раз приходил дядя Коля и требовал газету с автографом. Он не верил, что моего «стиха» ещё не напечатали, и говорил, что придёт в редакцию и «даст им разгона». На следующем заседании литкружка разбирали стихи поэта, который делил рассказы на классы. Обсуждение шло скучно. На всех критиках лежала печать разгрома в прошлый понедельник. Ободрительно всем поулыбавшись, выступил Виктор Александрович. Он говорил: «Хорошо! Есть образность. Но вот «лист кленовый засиял...» — никуда не годится. «Лист» не держится в стихотворении – отрывается и вываливается...»
Потом говорил моложавый поэт. Он согласился по поводу листа, образности; говорил, что свежи какие-то «эпитеты», что главная идея проходит по стихотворению какой-то «красной нитью» и что содержание гармонирует с формой. Но сказал, что, пожалуй, «а ты, Восточная Звезда...» — не звучит: «Звезда проваливается за горизонт, и её не видно...».
Я тоже захотел выступить и попросил слова. Мне дали...
«Я полностью согласен с предыдущим оратором – сказал я. – В стихотворении бездна образности. Эпитеты – все очень свежие. Наличествует очень толстая и очень красная нить. Но вот формы в стихотворении я не вижу, одно содержание. Кроме того, «Глазами, полными огня, я обнимал твои движенья, язык летящего ручья ласкал твоё изображенье...» – никуда не годится! Глаза тут не держатся – вываливаются, а язык – высовывается... »
Все почему-то стали опускать головы, отворачиваться и чем-то давиться. Но вот, наконец, Виктор Александрович предложил обсудить моё стихотворение. Дрожащим голосом я прочитал его, и тут началось. Мой «шедевр» разнесли в пух и прах, не оставили камня на камне! А поэтесса с печальными глазами подвела итог: «Взять резинку и стереть».
После обсуждали стихи какой-то третьеклассницы, их читал моложавый поэт и после каждой строки прищёлкивал языком от удовольствия:
– Хорошо... Ах! Замечательно... Вот где талант! Вот где божий дар...
Я угрюмо ждал конца заседания, кто-то попросил слова. Это был новый член литкружка.
– Хочу спросить: сколько вы платите за строчку?
Виктор Александрович улыбнулся и ответил.
– А за прозу?
Председатель терпеливо объяснил.
– Не густо... Это же надо? Столько беспокойства, а такая оплата.
– А вы что пишете: прозу или стихи?
– Поэт я.
– И давно пишете?
– Давненько... Третий месяц пошёл.
– Сколько написали, если не секрет?
– А чего ж? Восемьсот пятьдесят.
– Чего именно?
– Стихотворений.
На остановке мы с автором восьмисот пятидесяти стихотворений долго ждали автобус.
– А ваш редактор хитёр... Я таких сразу чувствую. Ты не знаешь, по какой цене в аптеку пиявок принимают?
– Нет.
– Говорят, по тридцать копеек. Я уже одно болотце присмотрел. Если не напечатают – пойду ловить. Живые деньги...
Я ехал в автобусе и смотрел в окно, на душе у меня было тоскливо. «Хоть пиявок лови», – думал я. Но где-то в уголке сознания просыпались мысли, что и в следующий понедельник я всё же приду на заседание, а пока попробую что-то написать не в газету, а сугубо для себя. И в голове вдруг потекли строки:
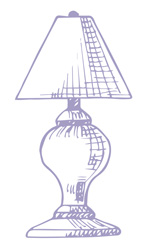
 Мир открытый сам собой
Мир открытый сам собой
Для себя рисует вечер,
Где в покое тихом свечи
Освещают путь любой...

Комментарии
Добавить комментарий